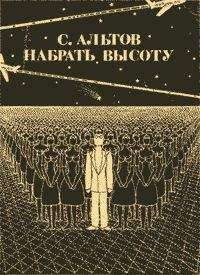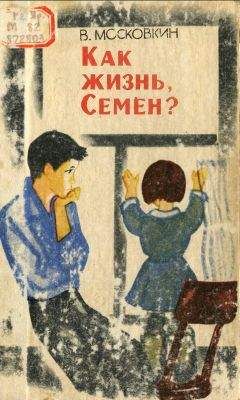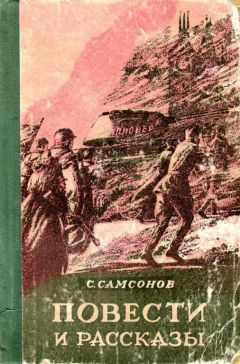Семён Шуртаков - Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]
Работа застопорилась. А в такие минуты опять начинают одолевать всякие сомнения, в голову лезут всякие противоречивые мысли. И хочется поговорить с кем-нибудь, высказать эти мысли, хочется, чтобы кто-то или отверг их, или, наоборот, утвердил, тебя в твоей правоте… С шефом я не люблю говорить о работе незаконченной. Вот сделаю, покажу и послушаю, что он скажет. А пока работа где-то на середине, тут самое лучшее поговорить с каким-то близким человеком, пусть даже и неспециалистом. Поговорить бы с Владимиром! Впрочем, многое из того, что сейчас мне приходит на ум, корешками-то уходит в наши с ним разговоры.
Близкого человека среди моих знакомых нет. Вот и приходится сочинять такие разговоры, в которых сам же с собой споришь. Самый близкий человек у меня — Маринка. Но заговорил я с ней как-то, а она мне:
— Ну что ты, Витя, мудришь? Твое дело — проект Дворца культуры. Так ведь? Зачем же ты ломаешь голову над тем, правильно ли спланирован город да с умом ли застраивается? Какое тебе дело до всего города? Пусть о нем голова болит у главного архитектора…
Вот так мне ответила Маринка. И я на нее очень рассердился. Я даже оказал, что в ее рассуждениях слышу голос Альбины Альбертовны, ее любимой мамочки (хотя и не мог объяснить, почему, и вообще, при чем тут Альбина Альбертовна). Тогда я рассердился. А вот сейчас подумалось: может, Маринка-то права? Может, и в самом деле мне надо поменьше раздумывать над всякой всячиной, прямого отношения к моему проекту не имеющей?! Ну что это дает, зачем зря тратить порох?!
Итак, идем в кино.
По дороге на Арбат я вспоминаю, как охотно согласился на предложение Маринки. А ведь недавно жалел о пропавшем вечере. Как это понимать?.. А понимать, видимо, надо очень просто. Тогда у меня было рабочее настроение и была возможность посидеть вечер в тиши кабинета Николая Юрьевича. Только и всего. А вообще-то я начал замечать в последнее время, что домой мне не хочется. Я вдруг понял, что у меня и нет никакого дома. У меня есть Маринка и комната в чужом доме, не больше. Что уж говорить о какой-то там атмосфере домашности, которую я испытал у Вали с Владимиром. В нашем доме есть удушливая, постоянно предгрозовая атмосфера Альбины Альбертовны. Сама-то Альбина Альбертовна, конечно, пребывает в железной уверенности, что и для мужа и для нас с Маринкой она создает райский уют, что дом — полная чаша и все такое. И скажи я ей, что у меня нет чувства дома — она бы просто не поняла меня или посчитала за ненормального… Ну, я-то ладно, интересно, есть ли чувство дома у Николая Юрьевича?..
Маринке ехать было ближе, и когда я подошел к кинотеатру, она уже успела купить билеты.
— У нас еще почти полчаса, что идти в духоту, посидим на бульваре, — предложил я.
— И вспомним молодость — ударим по мороженому!
Это был наш давний — еще с поездки на Кавказ — пароль: мороженое — значит, вспомним Кавказ.
— А уж если вспоминать как следует, — добавляет Маринка, — махнем сразу же после кино — нынче суббота — на дачу. А?
— Что ж, махнем, — все так же безвольно соглашаюсь я.
И вот мы сидим на удобной глубокой скамейке недалеко от памятника Гоголю и грызем твердое ледяное мороженое.
Тополиный пух белой порошей лежит по краям дорожки. Пахнет свежей зеленью, и после разогретого асфальта улиц и площадей запах этот слаще меда. В луже у водопроводного крана, не обращая внимания на играющую рядом детвору, купаются отчаянные воробьи. Две голубки сели на плечи Гоголю — одна на одно плечо, другая — на другое, — и монумент от этого приобрел неожиданно веселый, комический вид.
— Чудеса, — говорю я. — Прекрасный памятник убрали, затискали куда-то в глухой двор, а на его место поставили… ну, да сама видишь, кого поставили.
— Но это просто другой памятник, — возражает Маринка. — То — Гоголь уже в конце жизни, когда он жег «Мертвые души», а это — молодой.
— При чем тут старый и молодой?! То был Гоголь, а это какой-то молодец в поддевке, ничего общего с Николаем Васильевичем Гоголем не имеющий…
— А по мне — так ничего. А вот надпись, даже на мой непросвещенный взгляд, не очень удачная…
— Да, тут не хватает только фамилии министра культуры. До сих пор подразумевалось, что писателям да еще народным, — а уж Гоголь не народный ли писатель?! — памятники ставит народ… Представь себе: рано или поздно, скажем, поставят памятник Толстому или Есенину — говорят, уже место выбирают — так вот, поставят памятник Льву Толстому и на нем будет написано: от Союза писателей…
Доспорить нам не дали.
К нашей скамейке притопала светленькая, востроглазая девочка строго, с подчеркнутым вниманием поглядела на нас и произнесла, именно не сказала, а произнесла:
— Вот сидите вы, едите…
И пальчиком в нашу сторону ткнула. Я уж подумал, не мороженого ли девочка захотела и просит вот таким странным образом.
Нет, ничего подобного.
— А ведь в этот самый час… — продолжала девчушка, да так значительно и таинственно, глазенки свои сделала такими устрашающими, что можно было подумать, где-то что-то ужасное должно происходить в этот час. — А ведь в этот самый час, — вдоволь насладившись произведенным впечатлением, после паузы повторила девочка:
На далекой Миссисипи
Крокодил грустит по вас.
Честно признаться, мы не сразу сообразили, что к чему, а когда поняли — громко рассмеялись. А Маринка — так просто зашлась хохотом:
— Здорово как!
Девочка же не только не поддержала нас, не только не улыбнулась, но даже и с некоторым осуждением поглядела на такую большую и такую легкомысленную тетю: по ней грустят, а она хохочет.
Пожалей-ейте крокодила,—
попросила девочка,
Ведь несчастный крокодил
За последнюю неделю
Ничего не проглотил…
— Вот теперь все, — наконец-то девочка позволила себе улыбнуться. Улыбнулась хитро, озорно — даже в этой улыбке чувствовалась незаурядная актриса.
— Маринка, не приставай к людям, — донеслось с одной из соседних скамеек, — сколько раз тебе говорить!
— Ах, тебя еще и Маринкой зовут! — уж и совсем в полный восторг пришла большая Маринка. — Ах, какое чудо!.. Дай я тебя поцелую.
— Можно, — милостиво разрешила девочка и подставила пухленькую румяную щеку.
Маринка облобызала свою тезку, и та вприпрыжку убежала к матери.
Я посмотрел на часы:
— Нам пора.
Фильм был о мужчине и женщине. Он потерял жену, она — мужа. У него растет сын, у нее — дочка. Дети воспитываются в одном загородном пансионате под Парижем, родители навещают их. Там они впервые и встречаются. Между ними зарождается — это показано очень тонко — любовь. Конец фильма: да, они любят друг друга, они счастливы. Но в одну из самых счастливых минут вдруг узнается, что счастье это неполное, что не так-то просто новой любви переступить через прежнюю, первую. Хотим мы того или нет, но все, что с нами бывает, навсегда остается в сердце!..
Не знаю уж по каким таким ассоциациям, но перед моим мысленным взором промелькнула Валя. И хотя длилось это какое-то мгновение, но в груди защемило-защемило, словно кто взял и стиснул сердце…
По дороге домой мы, по обыкновению, говорим о только что виденном. Правда, частенько получалось так, что мы с Маринкой замечали в фильме или в спектакле одни и те же детали, одни и те же находки и промахи, будто смотрели одними глазами. Поначалу это обстоятельство приводило нас, особенно Маринку, в восторг. Да и как было не радоваться: значит, столь близким было родство наших душ, значит, мы как бы постоянно были настроены на одну волну. Со временем это счастливое обстоятельство стало радовать нас все меньше и меньше, потому что разговор получался у нас хоть и очень душевный и очень согласный, но довольно скучный.
— Ты помнишь, как он говорит ей одно — ну, когда сидят в кафе — а думает о другом?
— Да, там режиссер нашел точную деталь: во время разговора он вынимает из вазы на столе красную розу — любимый цветок той, о которой думает…
— А помнишь…
Хорошо «а помнишь» раз или два, а когда семнадцать — это уже не так интересно.
Вот и нынче в метро, по дороге на Казанский вокзал, стоило мне вспомнить какой-нибудь эпизод из фильма — Маринка тут же подхватывала и продолжала говорить о нем так, как говорил бы я сам.
— Хорошо там с собакой получилось — это когда они идут берегом моря, прибойная волна накатывается на песок, а по этому мокрому песку с такой великой радостью собака бегает…
— Да, через собаку передано их состояние, может, сильнее, чем если бы они сами были в кадре. И как только режиссер сумел заставить так здорово сыграть — не актера — собаку!..
Лишь в одном наши точки зрения не сошлись.
Есть в фильме эпизод, когда главный герой, автомобильный гонщик, сразу же по окончании очень трудного состязания на той же машине едет ночь напролет почти через всю Францию, чтобы утром увидеть любимую. И получается, что всего проехал он, чтобы увидеть любимую женщину, что-то чуть ли не шесть тысяч километров.